
100 лет назад была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – первый конституционный акт Советской России. Документ вышел странным. Вместо прав он говорил о мировой революции, о национализации заводов и подавлении эксплуататоров, прямо противореча политике большевиков. В частности, противником национализации был сам Ленин. Как объяснить этот казус?
Не увидеть в тексте Декларации странностей может только тот, кто следует азбучному советскому подходу к истории: «Ленин великий нам путь озарил» и повел народы к социализму, отняв собственность у буржуазии. Но это крайне упрощенный взгляд на вещи. В реальности Ленин своеобразно относился к революции и даже осенью 1918 года продолжал твердить:
«Да, революция наша буржуазная... Это мы яснее ясного сознавали... никогда этой необходимой ступени исторического процесса ни перепрыгнуть, ни декретами отменить не пробовали».
Смотреть на этот вопрос иначе вождю мирового пролетариата . «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора», – писал автор «Капитала». В России буржуазный этап к 1917 году явно не достиг уровня европейских стран, и в таких условиях революция могла быть только буржуазной.
Но что делать, если народные массы , а буржуазия ? Ленин нашел выход в том, чтобы взять власть и силами пролетарского правительства довести буржуазные преобразования до конца, тем самым подготовив почву для перехода к социализму. В этом смысле Военный коммунизм был не попыткой форсированного построения коммунизма (это с марксистской точки зрения вообще невозможно), а мобилизационной экономикой военного времени. Точно так же и НЭП 1920-х годов стал не отступлением от большевистской политики, а закономерным ее развитием.
Более того, до начала Ленин всеми силами противился национализации, и первые советские шаги в этом направлении оказались вынужденными. Так, банки стали государственными в связи с тотальной забастовкой кредитных организаций, дестабилизировавшей экономику. То же касалось брошенных хозяевами предприятий, а равно тех заводов и фабрик, которые .
Ленин не отбирал предприятия у бывших владельцев, наоборот, вел с ними переговоры о возвращении и восстановлении производства. А представителю бакинских коммунистов, который поздней весной 1918 года привез на согласование в Москву принятый местным Советом декрет о национализации нефтяной отрасли, заявил:
«Спасибо, мы уже денационализировались. А кто у нас будет работать?.. А кто руководить-то будет?.. Нет, не можем, это значит погубить нефтяную промышленность».
Однако в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, проект которой был написан лично Лениным, почему-то звучит программа форсированного построения социализма:
«Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победу социализма во всех странах... Подтверждается советский закон о рабочем контроле как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников... (и т.д. – прим. ВЗГЛЯД) в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики».
Эти очевидные противоречия объясняются тем, что изначально Декларация была адресована Учредительному собранию. В силу велик был шанс, что оно вновь предпримет попытку передать власть Временному правительству, сделав его уже постоянным. Собственно, Временное правительство вело активную подготовку именно к этому, разработав для УС и формы предполагаемых законов, и структуру новой власти, и даже конституционный проект. Предполагалось, что Собрание просто утвердит эти документы, легитимировав сложившуюся систему своим авторитетом народных избранников.
Оказавшись у власти, большевики пошли аналогичным путем. С той лишь разницей, что времени у них было гораздо меньше. Уже перед самым созывом УС Советы предприняли попытку реализовать собственную стратегию его контроля, сведя полномочия Собрания к легитимации уже действующей власти. Не будь обстановка в стране столь напряженной, кто знает – возможно, эти планы удалось бы реализовать. Но в реальности цейтнот не давал шанса для тонкой политической игры, и Декларация была вынесена на рассмотрение УС без предварительной подготовки. Она начиналась со строк «Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам».
Решение о республиканском строе в России было принято еще Временным правительством, а о переходе всей власти к Советам заявлено на Втором всероссийском съезде Советов в октябре 1917-го. Единственный смысл декларировать эти моменты еще раз – утверждение их Учредительным собранием.
Аналогичным образом обстояли дела с пунктами о социализации земли и – соответствующие декреты были приняты в октябре и являлись действующими. Учредительному собранию предлагалось просто солидаризироваться с уже принятыми решениями Советской власти, чтобы не проходить один и тот же путь по кругу. В том числе признать уже свершившуюся национализацию банков и советский закон о рабочем контроле (который стихийный рабочий контроль как раз сворачивал), а также еще раз подтвердить свою приверженность праву на самоопределение народов, согласившись с уже свершившимся .
При этом полная национализация фабрик, заводов, рудников, транспорта и т.д. была отнесена в неопределенное будущее.
Но главным в Декларации было другое. «Учредительное собрание полагает, что теперь, в момент решительной борьбы народа с его эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти». Именно под такой формулировкой было предложено подписаться депутатам УС из социалистических партий, которые в феврале 1917 года. По итогам межпартийной борьбы в среде марксистов Советы решили поставить в этом вопросе окончательную точку.
А в качестве завершающего штриха УС должно было утвердить следующее положение: «Поддерживая Советскую власть и декреты Совета Народных Комиссаров, Учредительное собрание признает, что его задачи исчерпываются общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества». То есть отойти в сторону.
Таким образом, Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа не являлась ни конституционным актом, ни декларацией прав. Она была предложением к эсеро-меньшевистскому большинству Учредительного собрания признать верность большевистского курса, пролетарскую власть и ее декреты.
Собрание отказалось одобрить Декларацию. . А большевикам пришлось искать другие формы получения народной поддержки своим тезисам – документ был вынесен на обсуждение съезда Советов, где и был принят.
Таков исторический казус – текст, подготовленный Лениным для УС в качестве предложения о партийном примирении, вошел в историю как текст, оформленный от имени III Съезда Советов. Все упоминания УС из него убраны, и теперь уже III Съезд постановлял, признавал и соглашался. В том числе и с пунктом о недопустимости передачи власти буржуазии, что явно не имело к нему ни малейшего отношения.
Революция оставила нам много документов, буквальное прочтение которых способно породить неверные интерпретации тех или иных событий и политических мотивов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – один из них. Понять его истинный смысл можно, лишь погрузившись в контекст эпохи, споров о которой нам хватит еще на век вперед.



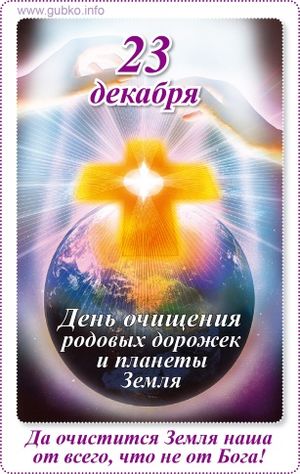









Комментарии (0)